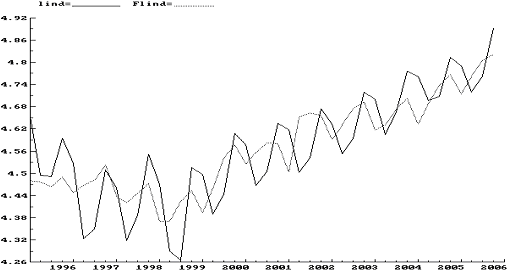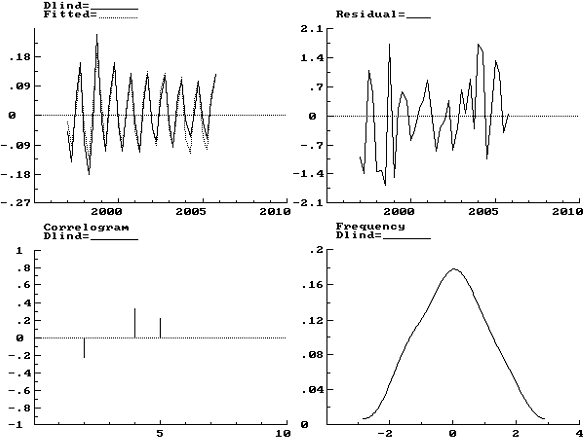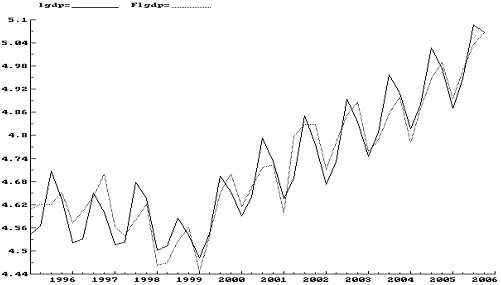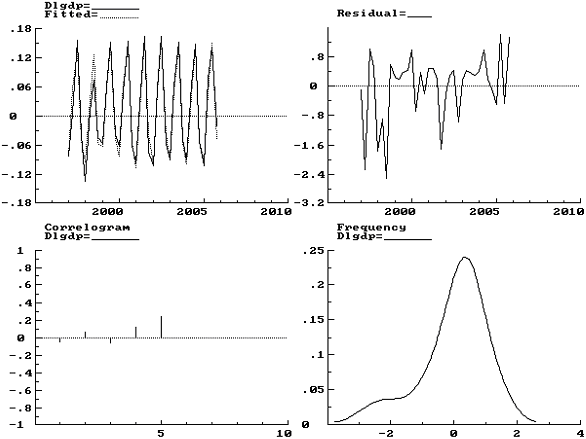|
Decision Support and Forecasting Center CEMI RAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Аналитика
О влиянии реального обменного
курса рубля на сектора и отрасли экономики России Б.Е. Бродский
Со времени нашей предыдущей публикации на данную тему (см. «О влиянии
реального обменного курса рубля на макроэкономическую динамику») прошло
полгода, за которые случились события вполне примечательные. С одной
стороны, продолжился агрессивный газетно-журнальный прессинг
представителей Минфина и Экономической экспертной группы, продолжающих
настаивать на укреплении рубля высокими темпами, мотивируя это тем, что
«укрепление рубля оказывает позитивное воздействие на российскую
экономику» (А.Бланк, Е.Гурвич, А.Улюкаев (2006)). С другой стороны, наша
позиция получила неожиданное подкрепление от президента Путина В.В.,
который после встречи с руководителями крупнейших предприятий реального
сектора, заявил, что дальнейшее укрепление рубля столь высокими темпами
может негативно отразиться на макроэкономическом росте и динамике
производства в основных отраслях. Это подвигло нас на продолжение
исследований с целью детализации полученных результатов и их
распространения на отраслевой уровень. Промышленное производство Выбор спецификации полученных далее эконометрических зависимостей базировался на результатах аналитического моделирования российской экономики, приведенных в работе Айвазяна, Бродского (2005). Из этих результатов следует, что к числу основных факторов, предопределяющих динамику основных макроэкономических показателей в России, следует отнести:
При этом из аналитической модели следует, что факторы мировых цен на экспортные ресурсы, тарифов естественных монополий, инвестиционной и налоговой политики можно рассматривать как фундаментальные, т.е. определяющие устойчивые среднесрочные тренды развития российской экономики, тогда как факторы политики реального обменного курса более тесно связаны с краткосрочной динамикой основных макроиндикаторов. Поэтому при построении эконометрических моделей фундаментальные факторы были включены в спецификацию т.н. «долгосрочной» коинтеграции, а фактор реального курса рубля - в спецификацию модели коррекции регрессионных остатков. Полученная коинтеграционная зависимость по квартальным данным за период 1995(1)-2005(4) имеет следующий вид (в скобках - t-статистика Стьюдента для коэффициента): log(Ind)
= 3.392 + 0.140 log(woil) – 0.107 log (rmon) +0.103 log(Inv(-4))
+ 0.099 s2001p2, Ind
- базисный индекс физического объема производства в
промышленности; Статистические показатели качества этой зависимости: R2 = 0.67; DW = 1.62. Таким образом, долгосрочный коэффициент эластичности индекса промышленного производства по фактору экспортных цен на нефть составляет +0.14; по фактору дефлированных тарифов на электроэнергию: -0.107; по фактору реальных инвестиций в основной капитал: +0.103; по фактору налоговой политики: 0.1. Рис.1. Индекс промышленного производства (lind=log(Ind)) и его расчет по модели (Flind)
Влияние фактора реального обменного курса на динамику промышленного производства в России является, бесспорно, значимым. Этот фактор не был включен в долгосрочную коинтеграцию по простой причине: динамика реального обменного курса формируется в значительной степени под влиянием экспортных цен на нефть и приходится исключить его во избежание эффекта мультиколлинеарности. Вместе с тем укрепление рубля в реальном выражении оказывает весьма ощутимый макроэкономический эффект: снижение темпов промышленного производства в 2005 году вдвое по сравнению с 2004 годом. Чтобы эконометрически точно рассчитать этот эффект, необходимо расширить построенную коинтеграционную зависимость до модели коррекции регрессионных остатков. Эта модель, построенная для показателя темпов роста промышленного производства, имеет вид (в скобках - t-статистики Стьюдента):
Dlog(Ind) = 0.058 + 0.261 Dlog(Ind(-1)) - 0.178 Rlog(Ind(-1)) + 0.126
Dlog(er(-1)) – 0.119 Seas где:
D - оператор взятия последовательных разностей прологарифмированного
динамического ряда, т.е. фактически перехода к темпу изменения
соответствующего показателя; Показатели качества этой модели: R2 = 0.92, критерий Бройша-Годфри на автокорреляцию остатков высокого порядка: AR 1-3F(3,33) = 1.82 - подтверждают ее приемлемое качество. Проведенный эконометрический анализ позволяет сделать следующие выводы:
Рис.2
Это означает, что рост мировых и экспортных цен на российскую нефть, приводящий вследствие «голландской болезни» к укреплению рубля в реальном выражении, вовсе не является очевидным и безусловным благом для российской экономики: снижение темпов производства, ухудшение структуры экономики - эти неприятные последствия со временем перекрывают все положительные эффекты роста цен на нефть. На Рис.2 приведены графики ряда регрессионных остатков (Residual), коррелограмма этого ряда (Correlogram), а также эмпирическая оценка плотности ряда остатков. Из этих графиков видно, что полученная модель обладает приемлемым статистическим качеством. ВВП Представляет существенный экономический интерес исследование влияния реального обменного курса на динамику ВВП. При этом в спецификацию эконометрической модели следует включить реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, который более точно отражает макроэкономический эффект данного фактора. Далее в расчетах использован индекс реального эффективного курса российского рубля к иностранным валютам (1995 г. = 100%), rer, рассчитываемый как взвешенное среднее геометрическое индексов реальных обменных курсов рубля к валютам стран - основных торговых партнеров России. Точная методика расчета этого показателя приведена в работе Balassa (1964). С использованием квартальных данных 1995(1)-2005(4) получена следующая коинтеграционная зависимость для индекса реального ВВП (GDP):
log(GDP) = 2.9852 + 0.1791 log(woil) – 0.0792 log(rmon) + 0.1875 log(Inv(-4))
+ 0.1195 s2001p2, Рис.3. Индекс реального ВВП (lgdp=log(GDP)) и его расчет по модели (Fgdp)
Показатели качества этой зависимости: R2 = 0.90, DW = 2.01. Проверка ряда регрессионных остатков этой зависимости на стационарность с использованием теста Дэвидсона-Маккиннона подтвердила гипотезу стационарности. Таким образом, долгосрочный коэффициент эластичности индекса промышленного производства по фактору экспортных цен на нефть составляет +0.18; по фактору дефлированных тарифов на электроэнергию: -0.08; по фактору реальных инвестиций в основной капитал: +0.19; по фактору налоговой политики: 0.11. Для оценки влияния реального эффективного курса рубля на темпы роста ВВП коинтеграционная зависимость была расширена до модели коррекции регрессионных остатков:
Dlog(GDP) = -0.081 + 0.284 Dlog(GDP(-1)) - 0.154 Rlog(GDP(-1)) - 0.072
Dlog(rer(-1)) + Рис. 4
На Рис.4 приведены графики ряда регрессионных остатков (Residual), коррелограмма этого ряда (Correlogram), а также эмпирическая оценка плотности ряда остатков. Из этих результатов следует, что рост реального эффективного курса рубля влечет за собой снижение темпов роста ВВП: эластичность реального ВВП по данному фактору составляет величину -0.07. Мы видим, что отрицательный эффект влияния реального эффективного курса рубля на динамику ВВП выражен весьма слабо, в отличие от влияния этого фактора на динамику промышленного производства. Это объясняется тем, что фактор реального эффективного курса рубля положительно влияет на динамику оборота розничной торговли. Далее аналогичные расчеты были проведены для индекса физического объема сельскохозяйственного производства, индекса оборота розничной торговли, индекса грузооборота транспорта, индекса объема строительных работ, показателей импорта товаров и услуг (млн.долл.), реальной заработной платы, реальных доходов населения, количества безработных. В таблице 1 приведены показатели эластичности для этих макроиндикаторов по фактору реального обменного курса рубля к доллару и реального эффективного курса рубля. Таблица 1.
Отрасли промышленности Вопреки фактам, авторы из Экономической экспертной группы при Минфине РФ продолжают настаивать на том, что «рост реального курса рубля, вызванный ростом мировых цен на нефть, в среднесрочной перспективе увеличивает выпуск всех секторов экономики» (см. А.Вдовиченко, О.Дынникова, В.Субботин (2003)). А руководитель ЭЭГ – один из «творцов российской экономической политики» (см. Интернет-сайт ЭЭГ) - в многочисленных интервью утверждает, что укрепление реального курса рубля «оказывает позитивное воздействие на российскую экономику». Следует признать, что эта позиция снискала благосклонность известных макроэкономических и финансовых «гуру» в России, отмечающих «условность» всех эконометрических расчетов влияния реального курса рубля на экономическую динамику. Целью нашей работы является опровержение этих пагубных точек зрения. Укрепление рубля в реальном выражении оказывает значимый негативный эффект на динамику производства в основных отраслях. Эконометрика вовсе не является «условной лже-наукой», не способной оказать существенную помощь в экономическом анализе и прогнозе. Отраслевой анализ позволяет еще резче оттенить основные выводы, полученные на макроэкономическом уровне. В частности, на данных о динамике производства в основных отраслях промышленности отчетливо видно, что реальное укрепление рубля оказывает резко отрицательное влияние на динамику производства в отраслях, производящих промежуточную продукцию: машиностроении, химии и нефтехимии, черной и цветной металлургии. Вместе с тем, в отраслях, ориентированных на конечный потребительский спрос, ревальвация рубля, в целом, стимулирует динамику производства. Этот положительный эффект, однако, часто перекрывается негативным эффектом конкуренции с импортными товарами. Пожалуй, лишь в пищевой отрасли российские производители могут эффективно противостоять импорту. Поэтому для пищевой отрасли влияние ревальвации рубля на динамику производства оказывается положительным. Далее будут рассмотрены эконометрические модели для индексов физического объема производства в основных отраслях промышленности. Источником данных являлись квартальные индексы физического объема производства за период 1994(1)-2004(4), опубликованные Госкомстатом в системе ОКОНХ. Следует отметить, что переход на систему ОКВЭД с 2005 г. существенно осложнил аналитические исследования российской экономики, поскольку преемственность экономической статистики в ОКОНХ и ОКВЭД не была обеспечена в полной мере. В ситуации с индексами физического объема производства положение, однако, более благополучное ввиду параллельных расчетов индексов производства в ОКОНХ и ОКВЭД, осуществляемых в ЦЭК при правительстве РФ. Отметим, что анализ аналогичных показателей по статьям ОКВЭД не меняет сделанных качественных выводов. Машиностроение Полученная коинтеграционная зависимость по квартальным данным за период 1995(1)-2004(4) имеет следующий вид (в скобках - t-статистика Стьюдента для коэффициента):
log(Mach) = 3.1106 + 0.326 log(woil) – 0.199
log (rmon) + 0.181 s2001p2,
Mach - базисный индекс физического объема
производства в промышленности
Статистические показатели качества этой зависимости: R2=0.807; DW=1.26. Таким образом, долгосрочный коэффициент эластичности индекса физического объема производства в машиностроении по фактору экспортных цен на нефть составляет +0.326; по фактору дефлированных тарифов на электроэнергию: -0.199; по фактору налоговой политики: 0.181. Как и при анализе макроэкономических переменных, фактор реального обменного курса не был включен в спецификацию коинтеграционной зависимости во избежание эффекта мультиколлинеарности. Влияние фактора реального обменного курса на динамику производства в машиностроении является весьма значимым. Чтобы эконометрически точно рассчитать эффект влияния реального обменного курса на динамику производства, необходимо расширить построенную коинтеграционную зависимость до модели коррекции регрессионных остатков. Эта модель, построенная для квартального показателя темпов прироста индекса физического объема производства в машиностроении, имеет вид (в скобках - t-статистики Стьюдента) :
Dlog(Mach) = 0.029 - 0.337 Rlog(Mach(-1)) + 0.2226 Dlog(ermach(-1)) –
0.2606 i1998p3
D - оператор взятия последовательных разностей прологарифмированного
динамического ряда, т.е. фактически перехода к темпу изменения
соответствующего показателя; Показатели качества этой модели: R2=0.64, критерий Дарбина-Уотсона DW=2.15 - подтверждают ее приемлемое качество. Проведенный эконометрический анализ позволяет сделать следующие выводы:
Пищевая промышленность Особенности экономической динамики, выявленные для российского машиностроения, в той или иной степени характерны для таких отраслей, как химия и нефтехимия, угольная промышленность, черная и цветная металлургия, лесной комплекс. Эластичности индексов физического объема производства в этих отраслях по фактору реального обменного курса приведены ниже в таблице 2. Однако существует принципиально иной характер влияния реального обменного курса на динамику производства, характерный для отраслей, ориентированных на конкурентоспособный потребительский спрос: пищевой отрасли и промышленности стройматериалов. Рассмотрим эконометрическую модель для индекса физического объема производства в пищевой отрасли. Полученная коинтеграционная зависимость по квартальным данным за период 1995(1)-2004(4) имеет следующий вид (в скобках - t-статистика Стьюдента для коэффициента):
log(Food) = 3.8558 + 0.1819 log(woil) – 0.090
log (rmon) + 0.2163 s2001p2, Food - базисный индекс физического объема производства в пищевой отрасли.
Статистические показатели качества этой зависимости: R2=0.80; DW=2.04. Таким образом, долгосрочный коэффициент эластичности индекса физического объема производства в машиностроении по фактору экспортных цен на нефть составляет +0.182; по фактору дефлированных тарифов на электроэнергию: -0.090; по фактору налоговой политики: 0.216. Как и выше, для количественной оценки влияния фактора реального обменного курса на динамику производства в пищевой отрасли необходимо расширить построенную коинтеграционную зависимость до модели коррекции регрессионных остатков. Эта модель, построенная для квартального показателя темпов прироста индекса физического объема производства в пищевой отрасли, имеет вид (в скобках - t-статистики Стьюдента):
Dlog(Food) = 0.0052
- 0.538 Dlfood(-1) - 0.120 Rlog(Food(-1)) -
0.1667 Dlog(erfood(-1)) –
(0.55) (-5.13)
(-2.93)
(-3.33)
D - оператор взятия последовательных разностей прологарифмированного
динамического ряда, т.е. фактически перехода к темпу изменения
соответствующего показателя; Показатели качества этой модели: R2=0.69, критерий Бреуша-Годфри на корреляцию остатков высокого порядка: AR 1- 3F( 3, 25) = 0.073716 [0.9735] подтверждают ее приемлемое качество. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что чистый эффект влияния реального обменного курса рубля к доллару на темпы производства в пищевой отрасли, измеренный показателем краткосрочной эластичности по данному фактору, составляет 0.17. Отсюда следует, что укрепление рубля в реальном выражении относительно доллара на 1% приводит к повышению темпов производства в пищевой отрасли (в реальном выражении) на 0.17%. Аналогичные эконометрические модели были построены для других отраслей промышленности. В таблице 2 приведены показатели эластичности показателей индексов физического объема производства в отраслях промышленности по фактору реального обменного курса рубля к доллару (для конкретной отрасли) и реального эффективного курса рубля (для всей экономики). Таблица 2.
Результаты, приведенные в этой таблице, позволяют сделать вывод о том, что укрепление рубля в реальном выражении оказывает негативный эффект на динамику производства в отраслях, производящих продукцию промежуточного потребления, и положительный эффект в отраслях, ориентированных на конечный потребительский спрос. В заключение остановимся детальнее на статье А.Бланк, Е.Гурвич, А.Улюкаев (2006), в которой обосновывается точка зрения, радикально отличающаяся от представленной в этой работе. Начнем с того, что авторы из ЭЭГ принципиально избегают анализа динамики объемных показателей производства, используя сконструированный ими индикатор «доли отечественных товаров на внутреннем рынке». Возникает странная ситуация: производство в отдельной отрасли может сильно снизиться ввиду неадекватной экономической политики, а «доля отечественных товаров» этой отрасли на внутреннем рынке, наоборот, возрасти в силу структурных сдвигов в импортных поставках. «Творцы» экономической политики немедленно сочтут эту ситуацию «позитивной» и будут настаивать на положительном влиянии реального укрепления рубля на российскую экономику. Напротив, любой здравомыслящий человек вряд ли сочтет позитивной ситуацию, когда реальный объем производства в отрасли вдвое упал, а «доля отечественных товаров» этой отрасли на внутреннем рынке подросла на 10-15%. Другое обстоятельство связано с архаичными методами эконометрического оценивания, использованными в упомянутой статье. Коротко говоря, с такими методами можно получать любые наперед заданные результаты. Авторы намеренно не приводят систему уравнений эконометрической модели, ограничиваясь невнятными замечаниями о годовых и квартальных лагах по объясняющим переменным и «двухшаговом методе наименьших квадратов». Читателю остается только гадать, какой объем выборки данных использовался в расчетах и какова статистическая точность модели? Выводы Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы о влиянии реального обменного курса на основные макроэкономические показатели в России. Вопреки утверждениям многих известных экспертов о положительном воздействии этого фактора на динамику производства (см. доклады Экспертной группы при Минфине РФ), реальная картина экономической ситуации более сложна и тревожна: рост реального обменного курса рубля приводит к заметному снижению темпов производства как в целом по промышленности, так и в основных ее отраслях (машиностроении, химии, легкой и др.), снижает грузооборот транспорта. С другой стороны, укрепление рубля в реальном выражении вызывает экспансию импорта и стимулирует рост оборота розничной торговли. Это может означать только одно: происходят заметные структурные сдвиги в экономике, бурными темпами растет сфера торговли и платных услуг, снижается и стагнирует промышленное производство. В целом, экономика все более зависит от экспорта сырьевых ресурсов. Резкий рост импорта, оборота розничной торговли, а также реальных доходов и расходов населения - это экономические явления, внутренне связанные с экспортно-сырьевым доминированием в российской экономике. Фактор роста реальных доходов населения, действительно, мог бы вызывать оптимизм по поводу среднесрочных перспектив российской экономики, если бы этот рост сопровождался оживлением российского производства в отраслях, ориентированных на конечный потребительский спрос. Тогда этот рост производства стимулировал бы прирост темпов выпуска в отраслях, производящих промежуточную продукцию для внутреннего и внешнего рынка (прежде всего, в машиностроении и металлообработке) и приводил бы к общему росту экономики. Однако факты говорят об обратном. Рост реальных располагаемых доходов населения сопровождается еще более резким ростом потребительского импорта вследствие реального укрепления рубля. Поэтому рост доходов не транслируется в увеличение реальных объемов российского производства, а приводит лишь к увеличению спроса на потребительский импорт. Стагнация в российском машиностроении, химии, легкой промышленности и других отраслях, ориентированных на внутренний рынок (за исключением пищевой отрасли), еще раз подтверждает этот тезис. Литература 1. А.Вдовиченко, О.Дынникова, В.Субботин (2003) О влиянии реального обменного курса на различные сектора российской экономики. Экономическая экспертная группа. 2. С.А.Айвазян, Б.Е.Бродский (2005) Макроэкономическое моделирование: подходы, проблемы, пример эконометрической модели российской экономики. ЦЭМИ РАН.
3. B.Balassa (1964) The purchasing power parity doctrine: a reappraisal.
Journal of Political Economy, v.72, pp.584-596. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Контакты: ЦЭМИ РАН 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комната 1110 |
|